Очередной Летописный семинар департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ был посвящен процессу становления договорных отношений между Новгородом и Псковом. Проблема их генезиса и эволюции осложняется отсутствием каких-либо новгородско-псковских договорных грамот. Известны лишь некоторые фрагменты, которые дошли до нас в составе летописных известий.
Аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Фокин представил доклад «Генезис договорных отношений между Новгородом и Псковом», посвященный становлению договорных отношений и их формализации в XIV веке. Докладчик отметил: никаких новгородско-псковских договорных грамот, за исключением некоторых фрагментов, дошедших в составе летописных известий, не сохранилось.
Первый известный текст, в котором каким-то образом определялись бы отношения двух городов, — это так называемый «Болотовский договор» 1348 года (который вслед за Т.В. Кругловой следует называть не договором, а жалованной грамотой), известный по летописям Новгородско-софийской группы (НСС) и ставший центральным для историографии новгородско-псковских отношений. Долгое время считалось, что именно этот договор положил начало независимости Пскова от Новгорода.
Исследователи, начиная с историков Галины Проскуряковой и Инги Лабутиной, пытались обосновать более раннюю датировку «Болотовского договора». Академик Валентин Янин не только предлагал новую датировку этого договора (1329 год), но и утверждал, что его формуляр опирался на предполагаемые предшествующие договоры, считая, что первое письменное соглашение между Новгородом и Псковом было оформлено уже в первой половине XII века. Гипотеза Валентина Янина была затем поддержана петербургским историком Алексеем Валеровым.
По мнению Григория Фокина, нет оснований предполагать существование письменных договоров до XIV века. Впервые прямо упомянутое в источниках заключение мира между Новгородом и Псковом относится лишь к 1329 году. Ему предшествовала серия важных событий, повлиявших на рост политической субъектности Пскова, в частности приглашение в 1323 году литовского князя Давыда, наместника великого князя литовского Гедимина. Сближение Пскова с Литвой привело к обострению новгородско-псковских отношений и заключению направленного против псковичей новгородско-орденского союза. Кроме того, на отношениях Пскова с Новгородом, а также с великим князем негативно сказалось принятие псковичами великого князя Александра Михайловича, бежавшего из Твери после антиордынского восстания 1327 года.
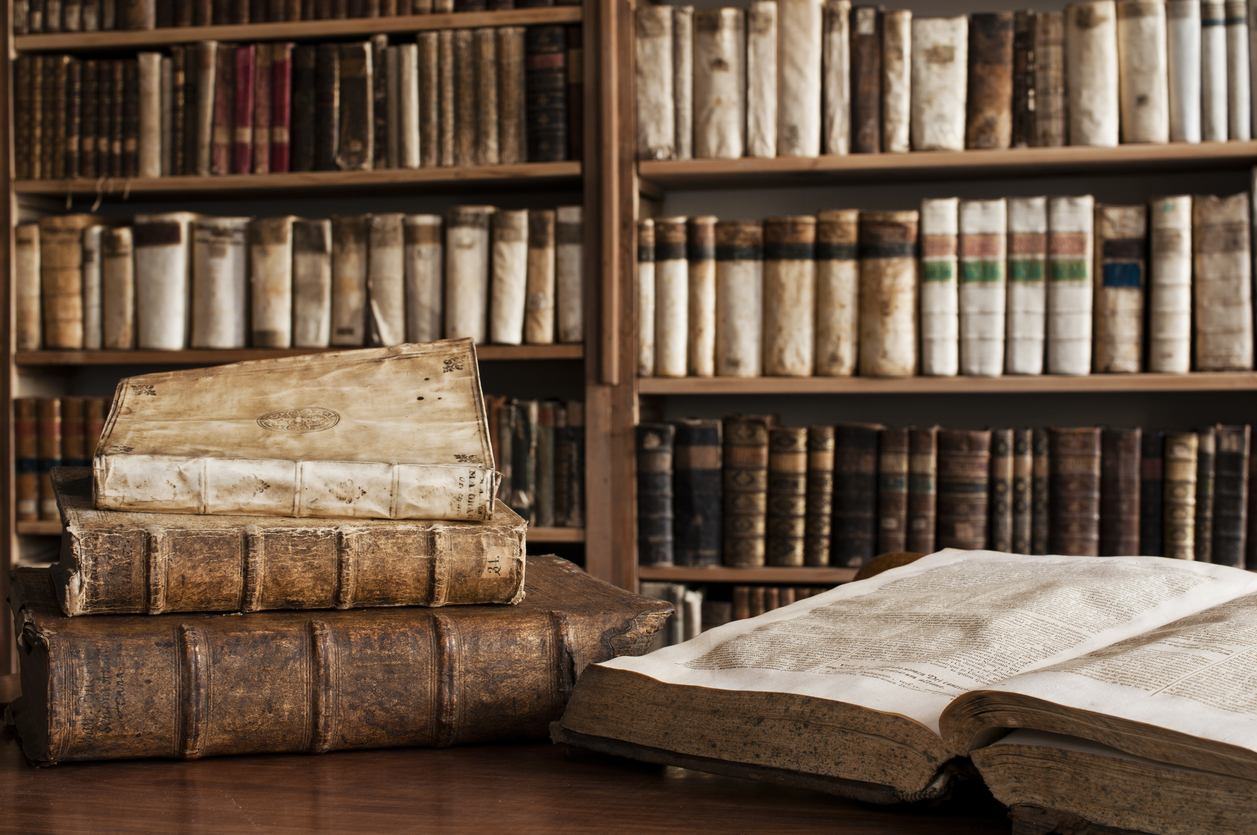
Фото: iStock
Неоднократные посольства (1328–1329 годы) великого князя Ивана Даниловича и новгородцев в Псков, по мнению докладчика, говорят о росте политической субъектности псковичей, которым ни Новгород, ни великий князь не могли просто так навязать свою волю по вопросу отъезда Александра Михайловича в Орду.
С ростом политической субъектности Пскова докладчик связывает прекращение упоминания псковичей в Новгородской первой летописи (НПЛ) в составе «всей волости новгородской», отсутствие упоминаний великокняжеских наместников в Пскове после 1310-х годов, а также зарождение в это же время псковского летописания.
Григорий Фокин рассматривает заключение трехстороннего мира 1329 года Иваном Даниловичем и Новгородом с Псковом как свидетельство начала институционализации новгородско-псковских отношений, связывая с этим процессом упомянутое в 1331 году новгородско-псковское крестоцелование (относящееся, по-видимому, также к 1329 году). В то же время, как подчеркнул докладчик, заключение мира в 1329 году совершенно необязательно сопровождалось оформлением письменного договора, так как новгородско-псковские отношения в это время, по его мнению, еще не были настолько формализованы. Это же касается и затронутых в докладе известий о примирениях между Новгородом и Псковом 1342 и 1367 годов, в которых тоже нет прямых указаний на заключение каких-либо договоров. При этом известия новгородских и псковских летописей 1320-х, 1340-х и 1360-х годов наполнены взаимными упреками в отсутствии военной помощи друг другу.
Первый отразившийся в летописных текстах письменный договор, как замечает Григорий Фокин, относится к концу XIV века, к Солецкому миру 1390 года. Заключение этого мира синхронно упоминается как в новгородских, так и в псковских летописях: о нем сообщают псковские летописи и НПЛ мл., а в летописях НСС даже дошел фрагмент текста самого договора. Он был заключен в условиях прямой конфронтации, во время похода новгородцев на Псков, поэтому, в отличие от ранее рассмотренных докладчиком известий XIV века, здесь ничего не говорится о взаимопомощи. Условия, приводимые в известиях НСС, носят односторонний характер, обязательства возлагаются только на Псков, что, по мнению докладчика, можно объяснить обстоятельствами заключения договора, военным давлением Новгорода.
Григорий Фокин коснулся и проблемы формуляра договора. По его мнению, он не связан с «Болотовским жалованием» и относится к более позднему периоду новгородско-княжеских договоров 1370-х годов.
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор РАН Павел Лукин подчеркнул сложность изучаемой темы, которая во многом определяется отсутствием псковских источников раннего времени, из-за чего исследователи в основном сталкиваются с новгородской точкой зрения на те или иные события. Он также обратил внимание на трудности, связанные с трактовкой понятия «волости» в новгородском летописании. Профессор отметил, что в приводимых докладчиком цитатах («соидеся вся волость новгородская: пльсковичи, ладожане, рушане, Корѣла, Ижера, Вожане» и т.д.) «волость» имеет обобщающее значение. По его мнению, это понятие указывает на все подвластные Новгороду территории, при этом статус самого Пскова все равно остается неясным. Павел Лукин посоветовал смягчить некоторые выводы докладчика, чтобы прямо не отрицать существование новгородско-псковских соглашений до XIV века. Кроме того, профессор РАН отметил, что история князя Давыда заслуживает особого внимания, поскольку возможно, что в некоторых источниках речь идет не о Пскове, а о Полоцке.
Григорий Фокин, касаясь вопроса о понятии «волость» в новгородском летописании, пояснил, что в контексте доклада важно само прекращение упоминаний Пскова в составе «всей волости новгородской» после 1320-х годов.

Фото: Википедия
Профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Петр Стефанович заметил, что договоренности между псковичами и новгородцами могли существовать и до XIV века, предлагая более четко различать сами договорные отношения и процесс их формализации. По мнению Петра Стефановича, во второй половине XIII века, при князе Довмонте, Псков уже был фактически независимым. В это время у псковичей вполне могли быть устные договоренности с новгородцами или великими князьями. Эти договоренности, считает профессор НИУ ВШЭ, могли быть оформлены как ритуально (через целование креста или иконы), так и письменно. Петр Стефанович назвал работу докладчика впечатляющей, но предложил обратить больше внимания на источниковедческую сторону вопроса, призывая осторожнее работать с известиями летописей из Новгородско-софийской группы.
Отвечая на реплику Петра Стефановича о фактической независимости Пскова от Новгорода в XIII веке, Григорий Фокин обратил внимание на различия известий НПЛ о Пскове в XIII и XIV веках. Докладчик привел в пример нехарактерные для XIV века известия 1228–1229 годов, когда псковичам пришлось оправдываться перед новгородцами и князем Ярославом Всеволодовичем за самостоятельное заключение мира с Ригой. Также, по мнению Григория Фокина, сама фигура Довмонта и его принятие псковичами, в отличие от литовских князей XIV века, оценивались новгородскими летописцами весьма положительно, что требует отдельного рассмотрения.
Научный сотрудник Центра по истории Древней Руси ИРИ РАН Сергей Городилин также обратил внимание на то, что в докладе недостаточно освещен период новгородско-псковских отношений до XIV века, и призвал докладчика к большей терминологической определенности. Он предложил не рассматривать новгородско-псковские отношения отдельно от взаимоотношений Новгорода и Пскова с великими князьями, добавив, что псковичи, по его мнению, подчинялись не новгородской городской общине, а новгородскому князю, который мог отправлять в Псков своих наместников, осуществлять в нем суд и оказывать на псковичей военное давление. Сергей Городилин согласился с докладчиком в оценке Солецкого мира 1390 года как, возможно, первого договора, заключенного между Новгородом и Псковом, но предположил, что статья о выдаче псковичами тех, «кто в путь ходилъ за Волгу», не отражала реальных обстоятельств, а была просто взята из новгородско-княжеских договоров для создания первого формуляра новгородско-псковских соглашений, потому что совместные походы ушкуйников с псковичами «за Волгу» маловероятны.
Отвечая на этот комментарий, Григорий Фокин заметил, что в статьях новгородско-княжеских договоров о выдаче разыскиваемых лиц, схожих по формуляру с Солецким миром, об ушкуйниках речи не идет. Докладчик предположил, что псковичи, напротив, вполне могли укрывать разыскиваемых новгородцами ушкуйников.
В обсуждении доклада также приняли участие доцент Школы исторических наук ФГН НИУ ВШЭ Дмитрий Добровольский и старший преподаватель департамента истории Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ Антон Введенский.


