Исследователи Вышки проанализировали, как формируются траектории доходов специалистов со STEM- и nonSTEM-образованием и почему в долгосрочной перспективе иногда выгоднее оказывается гуманитарное направление. Изучив динамику зарплат за два десятилетия, они показали, что не только профессия определяет, как быстро окупятся инвестиции в обучение. Исследование убедительно доказывает, что ценность образования зависит от институциональной среды и исторического контекста.
Департамент прикладной экономики Факультета экономических наук НИУ ВШЭ провел научный семинар, на котором была представлена работа младшего научного сотрудника Центра трудовых исследований Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Дарьи Зинченко с соавторами (Михаилом Алексеевым, Евгенией Черниной и Владимиром Гимпельсоном). Исследование было посвящено декомпозиции зарплатного профиля на слагающие его эффекты для работников со STEM и nonSTEM-образованием в зависимости от институциональных условий.
Человеческий капитал, который во многом определяет наши заработки, складывается из двух основных компонентов, пояснила докладчица. Первый – образование, полученное от детского сада до аспирантуры. С ним мы идем далее по жизни. Второй – обучение в процессе работы, то есть опыт. Со временем первый компонент может обесцениваться, второй накапливаться. Даже лучшее образование, полученное 40–50 лет назад, сегодня во многом устарело. Однако накопленный за это время опыт при определенных условиях способен компенсировать эти потери. Таким образом, человеческий капитал подвержен двум одновременным процессам: накоплению и амортизации, то есть обесценению.
Эти процессы у «технарей» и «гуманитариев» развиваются по-разному. Чем быстрее меняется профессия, тем быстрее обесценивается «школа» и тем больше требуется инвестиций в опыт. Для STEM-знаний (Science, Technology, Engineering, Math) характерна именно такая динамика: технологические сдвиги ускоряют их амортизацию и требуют постоянного обновления. Для nonSTEM (гуманитарии и социальные науки) знания чаще универсальны, их накопление растянуто до конца карьеры, но их ценность сильнее зависит от политического и/или экономического контекста.

Фото: iStock
Эволюция человеческого капитала отражается в динамике трудового дохода. Траектория его изменения — зарплатный профиль — совмещает динамику обоих процессов: накопления и обесценения. Однако за простой кривой зарплатных профилей скрывается одновременное действие трех эффектов — возраста (опыта), когорты (поколения) и времени. В терминах динамики человеческого капитала эффект возраста — это чистая траектория накопления с нарастающей амортизацией: по мере роста опыта работы зарплата увеличивается, но ближе к завершению карьеры она снижается из-за ускоряющегося обесценения навыков. Эффект когорты отражает стартовый «запас» знаний и скорость его обесценения: поколения, учившиеся в разные исторические периоды, выходят на рынок с разным качеством и применимостью образования. Эффект времени показывает, как общеэкономические шоки и технологические волны синхронно повышают или снижают отдачу от уже накопленных компетенций и могут ускорять или замедлять их обесценение.
Дарья Зинченко отметила, что эмпирическое разделение этих трех эффектов нетривиально и требует дополнительных предположений. Решение дает простая идея, предложенная много лет назад Нобелевским лауреатом Дж. Хекманом: в предпенсионный период инвестиции в человеческий капитал практически прекращаются, поскольку сокращается горизонт отдачи. Это допущение и позволяет технически выделить из зарплатного профиля эффекты возраста, когорты и времени и оценить вклад каждого из них.

Дарья Зинченко
Картина осложняется тем, что реализация человеческого капитала происходит в разной институциональной среде. Одни институты способствуют техническому прогрессу и инновациям, другие, напротив, делают выгодным перераспределение уже созданного богатства. Это может влиять не только на уровень заработков, но и на крутизну зарплатного профиля. В среде с сильными институтами выше отдача от «длинных» инвестиций в навыки и постоянного обновления компетенций: это поддерживает рост доходов по мере накопления опыта, особенно в STEM-профессиях, где требуется регулярное переобучение. В среде со слабыми институтами возрастает доходность рентных стратегий: там, где работают ренты, nonSTEM-профили растут быстрее, а стимулы к долгим инвестициям ослабеют.
Эмпирической основой исследования ученых Вышки стали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ) за 2000–2019 гг. В выборку были включены респонденты в возрасте 21–60 лет с высшим образованием, разделенные на группы со STEM- и nonSTEM-образованием.
Разложение зарплатных профилей на эффекты опыта (возраста), времени и когорты выглядит следующим образом. Эффект опыта показал, что зарплатный профиль специалистов с nonSTEM-образованием растет дольше и устойчивее. У STEM-выпускников он более пологий — быстрый старт сменяется замедлением роста.
Не менее важен оказался и эффект когорты. Зарплатные профили советских когорт с nonSTEM-образованием — юристов, историков, экономистов и т. п. — показали резкий провал в 1990-е гг.: их знания, сформированные в условиях плановой экономики, оказались малоприменимы в новой рыночной реальности и быстро обесценились. В то же время у STEM-выпускников тех же когорт динамика заметно устойчивее: их технические и инженерные знания, несмотря на трансформационный шок, все еще ценились.
Наконец, эффект времени показал, что если до 2009 г. общая экономическая конъюнктура одинаково влияла на обе группы, то в последние годы она была более благоприятной для STEM.
Критически важным фактором оказалось качество институтов. В работе оно определялось согласно индексу инвестиционных рисков агентства «Эксперт РА» с учетом данных о финансовой ситуации, криминогенной обстановке, инвестиционной привлекательности, а также социальных и демографических характеристик. Результаты показали, что в регионах со слабыми институтами зарплатный профиль специалистов с nonSTEM-образованием, особенно мужчин, становится значительно круче, «догоняя» и порой «обгоняя» STEM-группу.
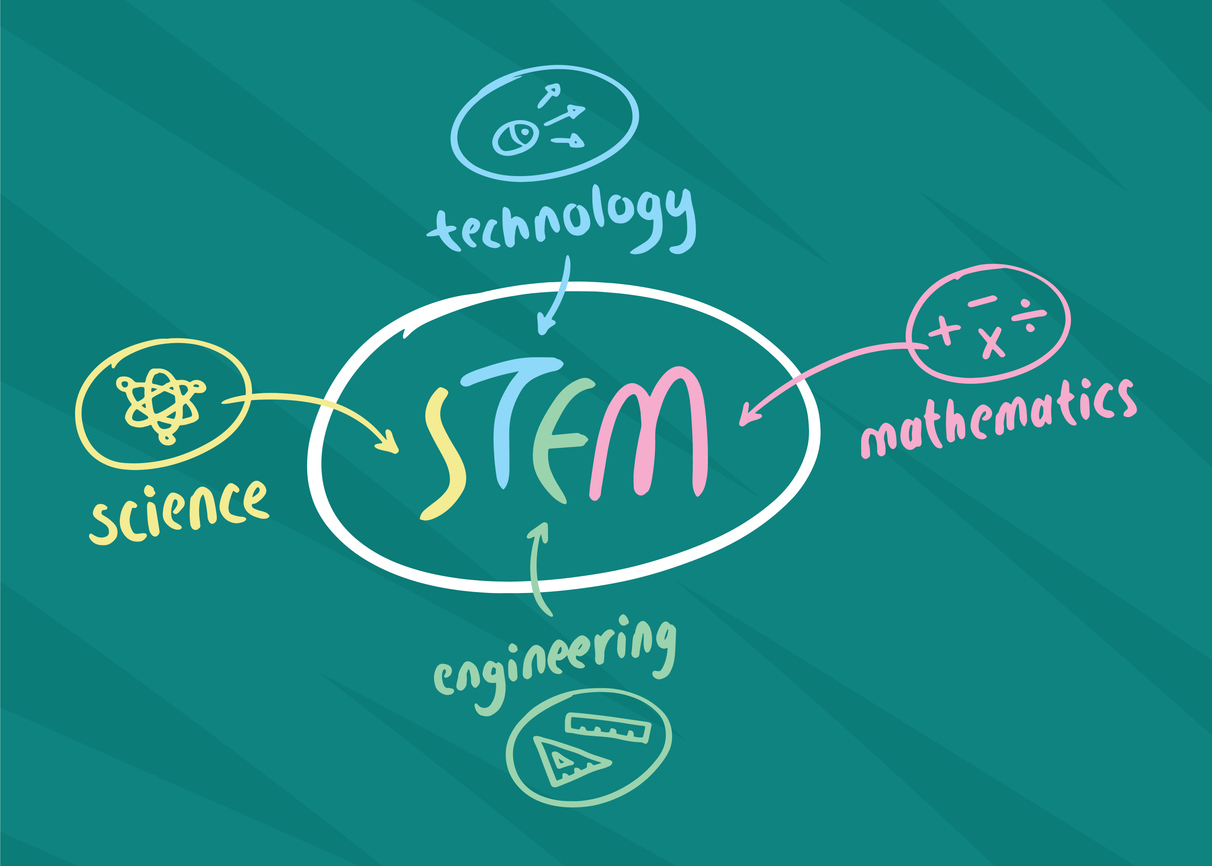
Фото: iStock
Это согласуется с более ранней работой Михаила Алексеева, где показано, что в институционально слабых регионах самые способные абитуриенты чаще выбирают юридические и управленческие специальности, ожидая доходов от ренты и перераспределения ресурсов. Для женщин этот эффект выражен слабее, что по всей видимости указывает на маскулинизированный характер рентоориентированных сфер. Для STEM-выпускников эффект институциональной среды на крутизну профиля заметно слабее: их зарплатный профиль оказался более устойчив к региональным различиям.
Результаты исследования задали тон дальнейшей дискуссии. Заведующий Лабораторией исследований рынка труда, проректор НИУ ВШЭ профессор Сергей Рощин, подчеркнул, что группа STEM крайне неоднородна. Она включает направления от IT и аэронавигации до текстильной и пищевой промышленности, где уровни оплаты труда кратно отличаются. На интерпретацию результатов в разрезе качества институтов дополнительно влияет масштабная образовательная и последующая трудовая миграция — около 40% выпускников покидают регион обучения, что «размывает» связь между местом обучения/работы и региональными институтами и зашумляет зарплатные профили. По его словам, без учета селективности поступления и выбора образовательных траекторий выводы могут оказаться смещенными. Рощин также предостерег от механического объединения гуманитарных и социальных направлений в единую nonSTEM-группу и от грубой дихотомии регионов по уровню качества институтов.
Доцент департамента прикладной экономики Анна Лукьянова, напротив, полагает, что выделение больших групп важно в профориентации. Она также подчеркнула значимость когортных различий в распределении абитуриентов по направлениям подготовки: если в советский период инженерные направления были престижными и туда шли сильные выпускники, то в последние десятилетия тенденция изменилась. Инженерные программы в рядовых вузах зачастую притягивают менее подготовленных абитуриентов, а более сильные, напротив, выбирают гуманитарные направления.
В обсуждении доклада также приняли участие сотрудники департамента прикладной экономики Елена Котырло, Елена Вакуленко, Марина Колосницына и Лариса Смирных.





